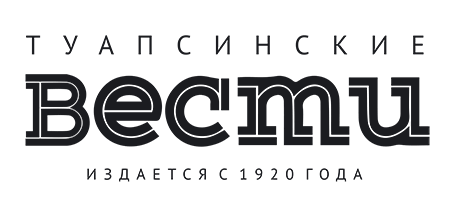В полдень на улицах шапсугских селений стоит космическая тишина. Прямые, как чабанский посох, нереально красивые патриархи в папахах восседают в густой тени своей ровесницы чинары. Так здесь было всегда. Так пока есть. Так будет?
Вечером эту уходящую кинематографическую натуру взорвет рев моторов. Это после рабочего дня возвращается в свой спальный район молодое поколение аульчан. Автомашины будут парковаться на лужайках под чинарой, внуки и правнуки патриархов с тяжело гружеными пластиковыми пакетами с изображением Дженифер Лопес торопливо потянутся по домам, вскоре голубым телевизионным светом засветятся окна. И станет село как село, неотличимое от любого другого российского. Разве только когда старенькая Нана-каляй позовет заигравшегося где-то внука: «Заур, домой!», сообразишь, что не село это вовсе. Аул. Но позовет его на русском языке – Заур адыгейского чаще всего уже не знает.

Язык – это прежде всего память народа. Его представления о жизни, история, способы хозяйствования. Это его ошибки и его прозрения.
Мы сидим в стареньком классе, где преподает Сафир Юсуфович Аллало. На стене плакат «Знать другой язык просто необходимо. Но не знать родного языка, живя на земле отцов – это непростительно». Здесь это не только нравственная максима, это подсчет понесенных потерь. По убеждению Сафира Юсуфовича, многие уже невосполнимы.
Чтобы бытовал язык, должна жить культура, его породившая. Это закон жизни языка, со смертельной неотвратимостью проявивший себя в индейских резервациях. Школьный учитель сегодня отмечает драматические следы увядания национального образа жизни. Шапсуги – первые наездники Кавказа, а ныне здесь 15 лошадей осталось. Да и за них спасибо отдыхающим, падким на экзотику. Блюда национальной кухни заменил полуфабрикатный общепит в целлофане. Теперь 200-летние древние котлы достают только на свадьбы да поминки. Нет, это вовсе не старческий консерватизм. Старый учитель Сафир Юсуфович, полвека преподававший ученикам начальных классов основы грамотности и арифметики, сегодня обучает их еще языку и традициям родного народа. По его убеждению, для жизни это столь же важно.
– Мы не просто изучаем историю аула. Важнее понять, что стоит за фактами. Эти попытки благородны и очень важны и для школьников, только начинающих жить, и для их родителей, – убежден Сафир Юсуфович. – У нашего села почти 140-летняя история. Знания и опыт людей, проживших столько на этой земле, закреплен в местной топонимике, в дендрологическом составе лесов, в каждом камне.
В апреле 1920 года на митинге жители аула единогласно проголосовали за советскую власть. История не раз проверила их на искренность такого выбора. И когда помогали Красной Таманской дивизии выбивать меньшевиков со своего перевала. И когда скрывали у себя членов Туапсинского ревкома и легендарного абхазского революционера Нестора Лакобу. Из 180 мужчин аула, ушедших на фронт в Великую Отечественную войну, 103 сложили головы за этот выбор.
Первая школа, первая медицинская амбулатория, первый клуб, первые доходы колхоза.
Время всеобщего счастья? Впервые эту фразу, произнесенную с вопросительной интонацией, я услышал от страстного исследователя краеведения, ныне покойного директора школы Аслана Натхо:
– Мы установили, что правление нашего колхоза разместилось в доме раскулаченного Батуха Нагучева, а исполком сельсовета – в доме раскулаченного Махмуда Шхалахова. Их обрекали на ссылку и погибель свои же аульчане. Дорого, очень дорого мы платили за возможность стать счастливыми. Да, в конце концов мы стали богаче «по сравнению с 1913 годом». Но стали ли милосерднее?
Был этот разговор в 1998 году, несколько дней назад Россия объявила о дефолте. Мгновенно опустевшие полки магазинов, вошедший в пике рубль и закрывшиеся банки, рухнувшие надежды на спасительность рынка и хозяйственную хватку россиян…
В краеведческих анналах агуйской школы теперь уже навечно хранится память о Тлехуцуке Нагучеве. Это случилось в 20-е годы, вскоре после Гражданской войны. В соседнем с Тлехуцуком Нагучевым доме случилось несчастье – умер кормилец. Вдова осталась с двумя малолетними детьми – дочками. Тлехуцук, человек совсем не состоятельный, (тогда здесь, как и во всей России таких просто не осталось) привел в этот осиротевший и разом оголодавший дом свою единственную корову.
– Эти девочки были моей мамой и теткой, – голос Аслана Камболетовича Натхо сразу начинал дрожать, когда он вспоминал об этом человеке. – Корова недавно отелилась, и молока у нее было хоть залейся. Этот святой человек не забирал корову, пока не подросла телочка. И тем спас детей, если не от голодной смерти, то от голодного детства. Тлехуцук в ауле не только моим родным помогал. А умер он, надорвавшись на общественных работах, когда всем селом первую школу строили.
Старожилы Агуя до сих пор помнят тост Мусы Аллало на встрече с абхазскими старейшинами. Это было в начале 90 годов, незадолго до смерти Муса. За столом сидели белые, как горные вершины, старики – высокая делегация из Абхазии и самые уважаемые люди села. Стол вел великий мудрец Мус. «Я буду говорить на языке земли, на которой мы встретились с вами», – сразу предупредил он. В конце долгого застолья, когда с обеих сторон прозвучал не один тост, а гости запели песню о горестной судьбе Лакобы, которого абхазы почитают, как русские Ленина, встал разом постаревший Мус. «Уважаемые, – обратился он к певцам на прекрасном абхазском языке. – В девятнадцатом году, когда Лакоба прятался от меньшевиков, я разделил с этим великим человеком кров своего родного дома, а через десять лет он разделил со мной тюремную камеру». А закончил тост великий мудрец Мус на чистейшем русском: «Я предлагаю выпить за то общее, что есть у нас с вами». Самый почтенный из гостей поставил на голову стакан крепчайшей водки и в танце, под величальную песню, которую затянули гости, подошел к Мусу. И они выпили этот тост, два мудреца, битых жизнью и повидавших невообразимое для человека. За то, что породнило три этих народа – за горечь и сладость общего прошлого.
Цивилизация сегодня размывает границы национального идеала. И это заметно даже в мелочах. Старый учитель Аллало ведет счет таким потерям Всего несколько десятилетий назад было величайшим грехом бросить мусор в речку. Считалось, мама умрет. Суеверие, конечно, но раньше в этой речке купались и белье полоскали. Сегодня в это верится с трудом.
Когда нынешние старики были молодым, их отцы, идя в лес, обязательно прихватывали с собой черенок яблони. Встретится им кислица – обязательно привьют на нее черенок. В расчете не на урожай, а на человека, который доживет до будущих яблок.
Нет, и сегодня не стоит аул без праведника. Мамет, внук Муса Аллало, много лет собирает экспонаты для будущего музея села. Магомед Нагучев ухаживает за всеми забытыми могилами на сельском кладбище. Нравственный инстинкт делать мир вокруг себя хоть чуточку добрее, светлее, гуманнее еще не уснул. Но продолжат ли эту эстафету их дети и внуки, которые учатся в школе, построенной Мусом Аллало, Тлехуцуком Нагучевым, другими жителями аула?

В сентябре в одном из классов здешней школы снова соберется факультатив по изучению адыгейского языка и культуры. Новичкам Сафир Юсуфович предложит прочесть аншлаг на стене: «Знать другой язык просто необходимо. Но не знать родного языка, живя на земле отцов – непростительно». Помолчат, подумают. Через несколько месяцев они смогут прочесть эти слова на родном языке.


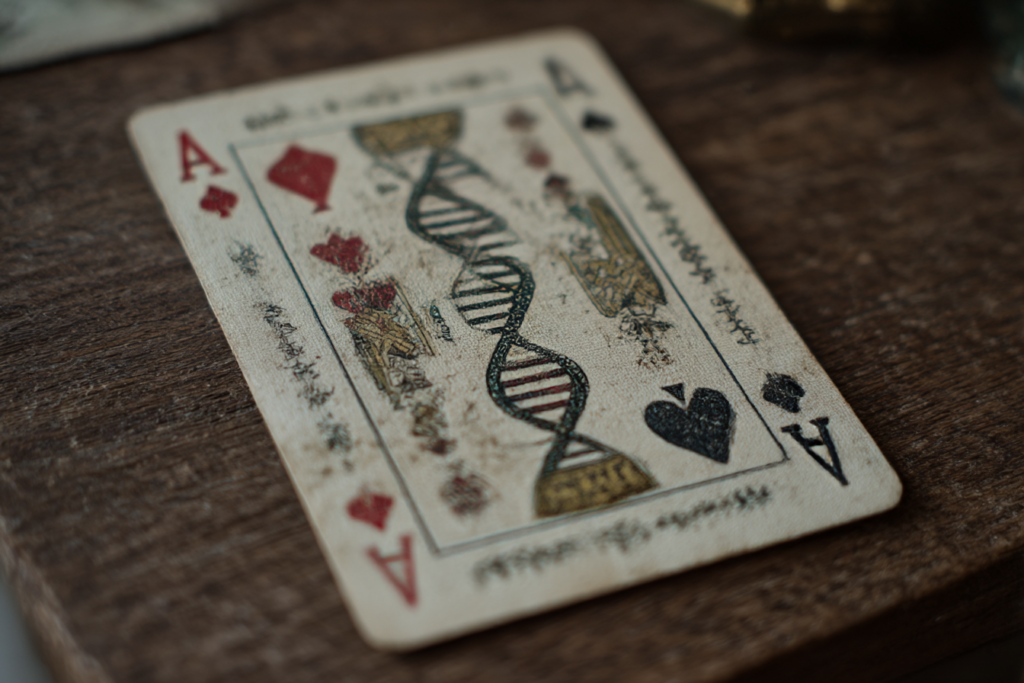
 Сгенерированная иллюстрация по промту редакции АНДРЕЙ БЕЛЫЙ | ТУАПСИНСКИЕ ВЕСТИ
Сгенерированная иллюстрация по промту редакции АНДРЕЙ БЕЛЫЙ | ТУАПСИНСКИЕ ВЕСТИ
 Сгенерированная иллюстрация по промту редакции АНДРЕЙ БЕЛЫЙ | ТУАПСИНСКИЕ ВЕСТИ
Сгенерированная иллюстрация по промту редакции АНДРЕЙ БЕЛЫЙ | ТУАПСИНСКИЕ ВЕСТИ